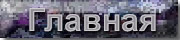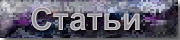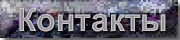Я стою посреди двора и слышу за своей спиной чем–то виноватый голос Ягоршина. Тихого и подтоптанного уже жизнью мужичонка. Даже не видя его, не поворачиваясь, он тот час же возникает в моей памяти, перед внутренним взором, во всей своей невзрачной красе невнятного колхозника и нелепого алкаша; его скуластое лицо типичного русака, невесть как прибившееся в это забитое и заспанное, тихое, присеймовское сельцо. Собранные в узел мелкие морщины возле его блеклых глаз. Синие, почти бесцветные, тонкие губы...
– В гости приехал?.. – Спрашивает Петька, и, сразу же, без всякой паузы, за этими словами, следует: А я твоей маме помогал. Носил ей картошку с огорода.
Оглянувшись, увидел, возвышающуюся над забором небольшую голову, покрытую неизменным картузом–«шестиклинкой». Под сим надежным послевоенным изобретением местной швейной фабрики, имеющим надежный спрос во всего мужского населения целого района, отчетливо угадывалась обширная лысина Егоршина.
Сам Егоршин, близко к среднему ростка, человечек. Худощавой и маломощной во своей плоти. Стоит в таком же простецком и поношенном пиджачке за 16 рубликов, купленном, видать, давненько в сельпо; сером с белыми едва заметными линиями. На праздник Победы, 9 мая, каждого года, он и запомнился мне таким, именно в этом незаменимом прикиде; да еще с какой–то белой медалькой на его лацкане. Тогда как другие фронтовики, на его фоне, выглядели, прямо–таки, сказать, маршалами, со своими многочисленными наградами…
Этот был очень тихий и нелепый алкоголик, как и многие мужички в этом селе. Все его действия в быту были подчинены решению одной очень простенькой задачки. В условии ее было сказано, что в оставшейся одинокой на старости матери, подозреваю, не всегда имелась самогонка (она слепа и плохо передвигалась), чтоб подпаивать подобных этому помощников. Без них не обходилась теперь не одна баба в селе. Егоршину, по слабости его духа, досталась ее мелкое «хозяйство», состоящее из кур и кроликов. Он быстро смекнул, что за нее отвечать теперь буду только я…
Перед тем как сделать жест доброй воли в его пользу, мне пришлось быстро вытряхивать из головы целый ворох забот, на которые я настраивался в тот субботний день. Надо было проделать за пару дней выходных всю ту самую работу, которую не за какие коврижки ей не сделают никакие алкаши.
Для этого мне пришлось уже не раз добираться с районного центра (где работал на одном из многочисленных заводов), – домой, – в это село, в которое–то и автобус ходил не так часто, как хотелось бы…
…Я помнил Егоршина еще с детства, как незаметного и скромного труженика колхозного зернохранилища, где мне не раз в годы школьной учебы приходилось отрабатывать «пятую», так называемую – «трудовую» четверть. У него было двое взрослых детей. Жил он недалеко, на Москаливке: с женой, сыном и своею невесткою–россиянкою, которую была родом с–под недалекого отсюда Путивля.
Великий и могучий русский язык межнационального общения в СССР, с помощью которого Егоршин долго общался с остальными аборигенами села, не смогла покоробить даже агрессивная среда местного суржика, который активно доедал его менее удачливого украинского собрата...
…Уже находясь в хате, за столом, он поведал мне о минувшей войне. Такие люди, юность которых опалена войною, живут только долгой памятью о ней. Помню, что он рассказывал о немецких танках, о которых он знал не понаслышке.
– У «Фердинанда» дуло, как вон–то ведро! – Показывал он, на стоящую возле печки помойницу. – 92 миллиметра! Как влепит, мало не покажется! Вот такая была силища. Что, ты!..
…Вечером я вышел на берег залива, над которым возвышалась давно уже не функционирующая сельская баня, сложенная с шершавого шлакоблока, с проржавевшими давно трубами, которую надежно обживали теперь овцы и летучие мыши...
Садясь на одну из лодок, стоявших на привязи напротив обросшего лозами Островка, я долго глядел на сосны, стоящие стеной та том берегу залива. Сосны были посажены лет двадцать тому назад, когда я был маленьким, и выросли буквально на моих глазах, за недолгим исключением тех лет, когда я бродил по Сибири и служил на Байконуре. Небольшой заливчик, служивший гаванью для эскадры лодок, был отделен уже узкой протокой от Сейма, и весь зарос кувшинками, козельчаком (стрелолистом), лилиями и еще всякой там, разной водяной гречихой и крапивкой...
Сюда, с окрестных лугов, под защиту крайних хат, подплывали все новые и новые табуны гусей. Выходя с воды, гуси заботливо отряхивались, хлопая себя крыльями, и, с характерным герготом, устраивались здесь же на ночлег...
…На небольшом плесе, появились лодка с рыбаками. Они обложили периметр залива кидальными сетями, и начали пугать рыбу.
Рыбалка была всегда мужицкой отдушиной в беспросветной колхозной работе. Многие компании рыбаков, не менялись здесь годами. Хро! Хро! Хро! – раздавался в толще воды звук «хрокала», – «бовта», – которым загоняли в кидальные сети рыбу. Так промышляли еще их прадеды и деды, пока их не очень далекие потомки, понаехавшие из Конотопа, не наловчились добывать рыбу «электроудочками». С той поры, над заливом уже не услышать характерных, хрокающих звуков...
…На берегу появляется Егоршин. Я наблюдаю за ним, как он спускается к берегу, и, побродив вокруг усевшихся на траве гусей, остановился напротив рыбаков, которые втаскивали через борт свои мокрые сети. Кое–где блестели увязшие и запутавшиеся в ячеях плотвички и подъязки...
– Иван Якович? – Обратился Егоршин, до сидящего на веслах мужика. – Ты нэ бачив мойих гусей?
Тот, раздраженно, отшил Егоршина:
– А, Петька, ось отстань од мэнэ со свойими гусями! Тут люды дилом займаются, а ты, всьогда, лизэш нэ воврэмя!
Егоршин – умолкает, и, виновато потоптавшись на месте, обнаруживает меня, сидящего на привязанной лодке...
Не спуская взгляда с протоки, он начал сближаться со мною.
– В тебя нет закурить? – Спросил.
– Есть,– говорю, – добирайтесь…
Стуча о борта лодок кирзовыми сапожищами, он приблизился по соседней лодке ко мне. Получив от меня сигарету, он отломал фильтр, очевидно, чтоб повысить ее крепость, перед тем как долго разминать ее перед употреблением. Это была легкая болгарская сигаретка: «Ту – 154».
В зареве зажженной спички, я увидел уродливый шрам на тыльной стороне его ладони.
– Война? – Спрашиваю.
– Война…
В этом слове, заключался весь драматизм целой эпохи. Он надолго умолк. Я понял, что он хочет что–то рассказывать, поэтому не мешал ему собираться со своими мыслями. Это желание, почему–то, стало понятным мне сразу, как только предо мною, в каждой вспышке огонька от сигареты, будто вспышки разрывов снарядов и бомб, начали открываться темные воронки его глубоких глазниц...
– В 37–м году я окончил землеустроительный техникум в Ельце. После этого, меня призвали в Красную Армию и направили в военное училище, где я выучился на наводчика танка, – cказал Егоршин.
… « – Уже на третий день войны, мы наступали на город Перемышль. – Польский город (населенный украинцами) оказался по пакту Молотова – Рибентроппа в советской зоне оккупации. Немцы его захватили уже в первые часы войны. Надо было снова вернуть утраченный военный трофей. – По дороге движутся войска. Техника. Красноармейцы в полуторках. Танки и танкетки…
– В одном танке, сверху, еду и я, старший сержант. По ветру, зеленая рожь ходит волнами... С боку, вижу, возле ржи, аккуратно сложена целая гора блестящих канцерных банок…
« – Я, так и так…», – докладываю своему командиру.
« – Это немцы!», – говорит командир
– Они атаковали нас от ближайшего леска. Силами целого полка. В бой вступила артиллерия. Немцы шли по ржи цепью, не пригибаясь, в зеленых своих мундирах, с высоко закатанными по локоть рукавами. Мы спешно развернулись и идем им навстречу... Взрыв! Меня контузило. Осколок разворотил весь правый бок...
Вспоминая этот бой, Егоршин благодарил только своего земляка из Смоленской области, который вытаскивал его из этой мясорубки уже на своих плечах. Окровавленного, доставлял в ближайший медсанбат.
– А эту рану, на руке, получил уже в 43–м году, под Харьковом, – вспоминает Егоршин. – Когда немцев погнали от Курской дуги. Случилось идти в лобовую танковую атаку. Это очень жуткая вещь, я тебе скажу… впереди «тигры» и «фердинанды». А за ними – густой цепью – пехота... Я в головном танке, одном из трех… Удар в боковую броню. Командир танка, младший лейтенант Акопян, кричит: « – Горим! Покинуть машину!». – И первым подался в боковой люк...
Егоршин на миг замолкает. Слышно гудение комаров. Снова просит сигарету…
– Это был… кромешный ад! Подбитые… пылающие танки на поле боя. Трупы убитых и раненных... В нашего командира, распорот осколком живот. Все его кишки повисли на броне. Немец, присев на колено, строчит по мне с автомата... Пули стучат по броне, рикошетя, впиваются мне в руку... Я, без сознания, валюсь куда–то вниз…
На счастье, атака тогда не захлебнулась, как это часто бывало, и Егоршин оказался в заботливых руках санитарок…
…Он отправился в эшелоне на Восток, с открытой раной в боку, плохо вылеченной тогда (больше вылизанной только червями), полученной еще тогда, под Перемышлем. Эта рана теперь никогда не даст ему покоя. В бреду, он все кричал: «Наводка 90 градусов! Огонь по наступающему врагу!»…
– Эшелон стоял на станции Арысь, что под Ташкентом, – продолжает Егоршин. – Здесь я окончательно очухался... Снова ехали в горах, где–то за Алма–Атой попали в госпиталь. Там собирали немецких кобылиц, молоком которых, выхаживали тяжело раненных бойцов...
Начальник госпиталя велел своим санитарам, и те подносили каждому тяжело раненному бойцу большую кружку кобыльего молока. Многие, почему–то, отказывались от молока. Но Егоршин выдул полную кружку, и даже попросил повторить процедуру...
« – Во–о! Этот боец будет жить»! – Желая поставить его в пример остальным, похвалил Егоршина начальник госпиталя.
…Егоршин и здесь, назло всем смертям, выжил. Некоторое время после госпиталя, он даже готовил молодое пополнение для фронта, живя в промерзших казармах, в лесу, под славным городом оружейников – Тула. На войну его теперь уже не приглашали. Обескровленного, с самым мрачным настроением, относительно дальнейшей своей участи. Открылась, ставшая уже злополучной, плохо вылизанная червями, рана в правом боку. Отсюда, видно была только одна дорога, снова и снова ложиться в военный госпиталь…
« – Не выживешь ты, Егоршин, – сказал ему врач, выписывая его в очередной раз. – Ищи себе такую местность, которая бы не очень пострадала от этой проклятой войны... Молоко и баба! Вот что тебя спасет!»
« – Да где же я такую местность теперь найду? – Взмолился Егоршин. – Я, теперь, круглый сирота. Мою деревню, немцы сожгли. Родителей у меня нет. Нет для меня такого места!», – взмолился Егоршин.
Доктор пожал плечами, обращая внимание на зашедшего в кабинет полковника. Тот, сел возле стола, молча выслушал эту сценку.
« – Знаю я такое место! – сказал полковник. – Вижу, Егоршин, ты мировой парень. Поедем на мою родину, там я тебя пристрою…»
Так они вдвоем попали в послевоенный Конотоп.
С полковником он зашел в райисполком. Его знакомая, оказалась очень властной женщиной, которая заправляла в районе всеми делами. Полковник скрылся с нею в кабинете, велев Егоршину, подождать его, пока что, в коридоре...
« – Вот парень, которого я хочу тебе рекомендовать, – пригласив Егоршина в кабинет, сказал полковник: Старший сержант! Танкист! Кого тебе надо? Мировой парень! Хочет здесь поселиться и работать. Найдешь ему такое село, которое не очень пострадало от войны. Не шагу назад, парень!».
« – Мне такие люди нужны! – Обрадовано, сказала начальница. – Сейчас же направлю его председателем колхоза!»
« – Не можно мне на руководящую должность, – говорил Егоршин. – Я – сильно контужен! Мне покой нужен, и уход. Чуть что, у меня сразу же открывается рана в боку... До войны я окончил землеустроительный техникум. Могу работать землеустроителем».
Женившись, Егоршин работал землеустроителем на три присеймовские сёла…
…Здоровье его поправилось. Стал даже кандидатом в члены КПСС…
…В 48–м году, в колхоз пришла строгая директива. В конторе колхоза, собрался весь актив села...
«На повестке дня, у нас один вопрос: надо срочно собрать урожай!», – заявил председатель Лебедь.
Все покорно молчали. Слово взял Егоршин:
« – Нельзя то делать! Зерно молочной спелости! Солнце его покоробит!».
Наступила гробовая тишина.
« – А мы його щэ й в партию хочэм прынять!», – чужим каким–то голосом, говорит парторг, Сирык.
« – Да, шо ж мы з ным цацкаемся?! – Повышает голос председатель. – Гнать його трэба в шию! Шоб ноги його тэпэр, подли конторы, нэ було! На 50 метров, шоб до нэйи нэ пидходыв!».
« – Ложи на стыл свою карточку кандидата, Егоршин, и мотай отсюда на все чотыри стороны!», – сказал парторг. – Ты нэ оправдав нашойи довиры.
После этих слов, ему ничего не оставалось делать, как выложить свою карточку кандидата в члены КПСС на стол, и отправляться с этого «благородного» собрания, только потупив в пол глаза…
– Стал дежурить на мосту, – продолжал Егоршин.
…В самом начале октября месяца их заставляют вкопать перед мостом шлагбаум. Мост был рассчитан только на три тонны груза. Теперь без их разрешения не мог проехать никто.
– Стою, – продолжает Егоршин. – Тихо. Смотрю на осенние звезды.… Вот проехала подвода запряженная коровой. Карольшина, с дочкою, повезли на корм корове какую–то лепеху.
…От села светят фары; подъезжает ЗиС–5. В кабине сидит шофер, и заведующий Кролевецкой заготконторой. Были в председателя и чтоб не возвращаться обратно в Конотоп 42 километра, – решили ехать напрямик...
– В кузове у них сидел проводник, посланный Лебедем. Показывал дорогу, – говорит Егоршин.
« – Можно проехать через мост?» – Спросил у него заготовитель.
« – Да вы мне весь мост завалите, – отвечает ему Егоршин. – В вашей машине 5 тонн веса, а мост рассчитан всего на 3!»
« – Да ты, я вижу, парень, совсем не сговорчивый! – Повысил свой голос заготовитель. – Ты знаешь хоть, с кем имеешь дело? Да я таких, как ты, на фронте! Расстреливал! За неисполнение приказа! А, ну–ка, ребятки, поймайте мне этого молодца! – Заглянув в кузов, бросил он».
Оттуда выскочили его люди. Провожатый бросился в село…
Егоршин, скрылся в прибрежных кустах, в надежде, что берегом быстро доберется до села…
– Куда там, – вспоминает Егоршин. – Они люди военные и быстро раскусили мой маневр…
Растянувшись длинной цепочкой на лугу, они быстро припёрли его к заливу, и, плененного, привели к своему начальнику...
Переваливаясь с носка на пятку, тот уставил на Егоршина свои сытые глазки. Его самодовольная, отекшая от пьянства морда, излучала самодовольную мину. На войне ему подчинялись беспрекословно…
« – Тэк–с, тэк–с, – распоряжался заготовитель его судьбой. – Свяжите–ка ему, братцы, ручонки, и бросьте его в воду!»
Но, вдруг, заупрямился шофер:
« – Если свяжете – говорит, – ему руки, то не повезу дальше никого. Что хотите со мной делайте!».
Трудно оценить степень вымысла в рассказе Егоршина. В то время человеческая жизнь ничего не стояла, как на только что прошедшей войне, так и в быту, уже после войны, когда закончилась страшная голодовка 1947 года. Людям снова привычным стало умирать, и человеческая жизнь потеряла всякую цену. Об этом уже много сказано в правдивой литературе. Женщины легко мерли от абортов; мужчин косило пьянство и незалеченные раны.
…Перепуганному человеку, время, кажется, идет вечность.
Заготовитель долго переваливался с носка на пятки, с интересом рассматривая лицо пленника. Он искал в его глазах признаки страха.
Палачи любят находить его у своих жертв. Все были привычны к обязательной смерти и ее, по большому счету, уже не боялись. Но условие шофера (если это был не розыгрыш), они, таки, вынуждены были исполнить.
Егоршина не связывали, а только вытащили на средину моста, и на счет «три», бросили в ледяную купель...
– Течением меня затащило под мост, – вспоминает Егоршин. – Я схватился за толстую поперечину, которой были скреплены все четыре сваи забитые в дно, и вылез на нее…
« – Вы от меня далеко не уедете! – Громко, сказал Егоршин. – Я номера, вашей машины, запомнив!»
Заготовитель, со своей командой, вернулись на мост. Сорвав со шлагбаума ствол дерева.
Став напротив Егоршина, они начали заводить ее под мост, чтоб сбросить в воду строптивого мужика.
– Но разве удержишь в руках такую тяжелую дубину! – Спрашивает у меня Егоршин. – Скоро она вырвалась у них с рук, и уплыла мимо. Начали срывать настил над головою…
Егоршин закричал:
« – Лю–юди! Спасите! Помогите!»
Кто–то откликнулся:
« – Иду–у–у!», – услышал голос объездчика (того, кто приставлен был присматривать за колхозным лугом).
Нападающие бросили возню с отрыванием досок, и скорее бросились к своей машине. Через минуту она уже громыхала над головой у Егоршина, обсыпая того дорожной пылью…
Объездчик помог Егоршину тогда выбраться из воды. Пришлось ему снова отправляться в студеную воду, и грести руками к берегу. Оказалось, что не все так просто. Сильным течением его начало сносить под глинистый обрыв.
– Если б меня туда затащило, – жалуется Егоршин, – мне бы оттуда никогда не выбраться. Берега там очень скользкие; глубина и течение большие…
…Объездчик помог разжечь Егоршину костер. И тот, едва обсушившись, отправился к председателю докладывать о происшествии на мосту.
…В председателя – гулянка, в полном разгаре. Стол ломится от всяческих закусок. И сопровождавший кролевецкого заготовителя сидит в кругу своих людей. (Бывают же такие люди? – Жалуется на него Егоршин. – Человека чуть было жизни не лишили, а тому хоть бы хны!).
« – Ты ж нэкому щэ нэ розказав?», – спрашивает Лебедь, сверля Егоршина пристальным взглядом.
« – Нет», – отвечал, изумленный, сторож.
Тогда председатель, тихо, говорит ему:
« – И нэ кажи нэкому. То дужэ хорошии людэ булы. Ось тобы стакан водяры… Для сугреву… Та й быжи до своейи бабы».
…А через месяц, к Егоршину явился шофер.
« – Ты, – спрашивает, – никому не рассказал о том случае?»
« – Ты ж меня от лютой смерти спас?» – отвечал ему, Егоршин
« – Вот тебе две бутылки водки, колбаса. – И подал с кабины увесистый бумажный сверток. – «Мы тогда сгоряча несколько досок выломали на мосту», – сказал шофер, отправляясь в кузов. – «Держи, теперь!». – И выбрасывает на землю две длинные и толстые дубовые доски.
– У меня с них до сих пор деревянный диван стоит, – с какой–то гордостью, признался Егоршин.
Деревянным диваном, колбасой и двумя бутылками водки – вот, во столько было оценено простую человеческую жизнь?.. Я не сужу по одному этому случаю тогдашних начальников. Они, только что, тогда, прошли страшную войну; в них сложилось определенное представление о жизни и смерти. Жаль, что с этих теперь берут примеры многие новые господа. Никто из которых не желает жизни по справедливым законам. Человеческая жизнь по–прежнему стоит копейки…
…Лицо Егоршина вдруг взволновалось всеми складками и морщинками. Было такое ощущение, что он, вот–вот, задумывает какой–то новый рассказ…
– Мои гуси плывуть! Разве ты их не видишь? Гусак белый, и четыре серые гусыни…
Я начал вглядываться в сгустившуюся темень, окутавшею серым цветом весь этот небольшой заливчик...
– Нет, – говорю, – ничего не видать...
Он вытянул вперед свою тощую шею, словно пограничник, зорко всматриваясь в пространство перед собою, повторив:
– Гусак белый и четыре серые гусыни…
С каждой секундой нарастало его волнение. Егоршин еще раз повторил, словно заклинание:
– Гусак белый и четыре серые гусыни…
...И, действительно, уже через несколько долгих минут, царственно выплывал из темноты белый гусь, а за ним: четыре серые гусыни, вокруг целого выводка сильно подросших за лето гусят...
– Я их давно узнал по голосу, – сказал, светящийся от радости, Егоршин...
1996 г; 2012 г.