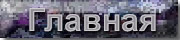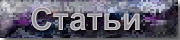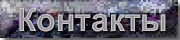|
Салабонов, - я так понял, - с самого начала психологически начинают загонять в глухой угол, чтоб небо им показалось в овчинку. На них орут; ими всячески понукают: кто, как хочет, - или: кто, как может.
Помню, как бесконечно долго, нам казалось, тянется трудовой день. Как медленно тянутся минуты наших мучений. (Впору было бы стать мазохистами).
…Мы все время поглядываем на медленно катящийся по небу не яркий диск декабрьского солнца, - к вечеру он всегда становится красным, - разбив панораму Комбината на циферблат солнечных часов, безошибочно угадывая, когда за нами придут сержанты, чтоб отвести нас на обед или ужин. В эти страшные дни из наших разбитых рук не сходили кровавые мозоли.
Не везде духов бьют сразу, бывает, что их начинают третировать морально, чтоб они теряли в себе силы оказывать реальное сопротивление. Особым шиком для старослужащего было заиметь снятую с духа, как скальп, шапку. После этого жертву этой мужской возни начинали планомерно «зашугивать». В зоне это соответствовало процедуре «опускания». Там, где существует природа человеческих отношений, всегда появляется высший и низший свет; устраивая даже и в этом грязном чистилище, какое-то подобие земного рая и ада.
Надо было много драться, чтоб показать, что ты умеешь за себя постоять. В один такой день, после очередной кровавой драмы разыгравшейся в столовой с моим участием, - ко мне подошел один авторитетный земляк и увел меня в лабораторию. Там, в чистоте и уюте, я мог бы работать до самого дембеля; обслуживая каких-то жен офицеров. Но там находились дембеля с соседней части Денисова, где верх держали бабаи; в меня, естественно, ничего с этой службы не вышло. Эти отморозки набросились на меня, начались попытки «припахать» меня, заставить делать то, что я не хотел делать, потому что это не делали уважающие себя люди, которых поведение я брал себе за образец. Начались неизбежные стычки, переходящие потом в потасовки, - в конце концов, мне пришлось без сожаления уйти оттуда.
Помню, однажды вечером, я шел в потемках с лаборатории. Огибая высокую гору щебенки, я тут же разминулся с каким-то пьяным. По лихо заломленной шапке можно было определить, что он, как минимум, уже год прослужил на Байконуре. Разминаясь со мной, воин, очевидно, успел прочитать на моей новой фуфаечке, - что естественно соответствовало рангу «салабон», - вытравленную хлоркой украинскую фамилию, и, тут же, громко окликнул меня в спину. Мне пришлось подчиниться потому, что по властному голосу я уже определил, этим воином мог запросто быть старослужащий, а мне, в моем положении салабона, незачем были здесь излишние враги.
- Кто был первым космонавтом? – Неожиданным вопросом огорошил меня впритык подошедший пьяница.
Назревала драка. Я приготовился к наихудшему развитию событий, к которому мне здесь было не привыкать.
- Как, кто? – Переспросил я, цепляясь за благоразумие.
- А ты разве не знаешь? – Сделав кривую ухмылку, спросил он.
- Да знаю, - говорю.
- Ну, так, и скажи, дедушке?
- Да, каждый это знает…
- А ты скажи, мне, не ломайся…
- Ну, Гагарин. Все?
- Все.
- Тогда, я пошел?
- Иди, - сказал воин.
Отойдя немного, мне вдруг открылся спрятанный смысл этих странных вопросов. Пьяный искал на свою задницу ночных приключений. Для этого ему нужна была хоть какая-то зацепка, чем могла послужить то, что я, например, украинец. Поскольку я могу соврать: кто я по национальности на самом деле, - парень попросил меня произнести это слово, звуки которого для уха россиянина, звучат по-иному в исполнении украинца. Эффект мягкого «Г» для уха россиянина, связан из специфическим произношением украинца. Я ответил этому шовинисту правильно, избежав в тот вечер незапланированной потасовки.
Возвратясь в казарму, я становился свидетелем каких-то диких сценок насилия. В карантине это были одни сцены, связанные с уголовниками и их жертвами. Так был замучен один невзрачный паренек.
…После того как нас перевели в роту, мы собирались в своем кубрике, сидели все втроем: я, Баскаков и Суботин. Баскаков постоянно достает с кармана брюк черный хлеб. Этот хлеб вонюч, спеченный с муки зараженной картофельной болезнью. Его не ели в рабочих бригадах, кроме салабонов и чмырей, которые собирали его по столам.
Салабоны потому, что постоянно были голодными.
Убогая пища, за которую с нас драли бешеные деньги, ни сколько уже не насыщала нас. На первое нам обычно давали капусту с водою, на второе капусту без воды, а на третье воду без капусты...
У Баскакова карманы ватника вечно были набиты чернухой. Он постоянно пытается угостить ею и меня. Того же Субботина - первым забрали к себе деды; он прислуживает им; его там и кормят.
Кузмин, который пропадает все больше в расположении армян, которые занимают сушарку; что-то им стирает. Он настоящий салабон.
Прислуживаясь только авторитетным дедам и армянам, он получает от них хлеб с вареньем, и какие-то сравнительно чистые обноски. Он всегда чист и подтянут; хотя работает не меньше нашего. Тяжелая работа не мешает ему следить за собой.
Мы в чем-то даже завидуем этому подхалимистому чморику, которое к тому же любит поучать нас, как надо жить.
- Надо жить с дедами хорошо, - постоянно твердит нам, опрятный на вид Кузьмин.
Однажды так совпало, что во время этой душеспасительной беседы на него накинулся Геворкян из нашего призыва. Он формально живет в нашем кубрике, хотя днюет и ночует вместе с земляками. Ему, очевидно, надоели эти стенания обычного чмырика.
- Кузмын! Кузмын! – Покраснев от злости, орет на своего чмыря разгневанный Геворкян. – Ты, чьмо, хадячее! Пачэму малчишь, слюшай? Эээ?
Кузмин подбегает к нему бочком, не теряя при этом товарный вид делового человека. Вся его фигура, выдает в нем лакея; какого-то официанта с престижного ресторана. Он застывает перед армянином; он весь в ожидании приказа.
- Можно тише, Геворг, а то, эти, услышат. - Я улавливаю слухом эти слова, сказанные весьма тихим голосом. (Кузьмин стесняется при нас быть тем, кем он есть на самом деле). Стоя боком к нам, он даже выворачивает белки глаз в нашу сторону. Но, армянин, вдруг со всей силы лупит его кулаком по спине.
- Эээ! Чморик! – Кричит армян: – Я твою мамашю е…! Воображала! – Здесь армянин весело подмигивает нам. – Вот моя тэлага, и чтоб чиста была. Чморик! Даа! – Геворкян демонстративно бросает ему в руки свою практически чистую фуфайку, и толкает его в сторону умывальника. Делает он это подчеркнуто грубо, чтоб еще больше унизить своего раба. С Кузмина он делает себе прислугу.
В душе Геворкян ненавидит всех чмориков, что выражается в своеобразной моральной поддержке остальных салабонов, которые держатся, не покупаются на дешевые подачки. Не выходя из своей роли борзого армянина, он иногда подмигнет нам, сидящим в своем кубрике голодным и злым, иногда молвит доброе слово. Он понимает, что лишенные всякой поддержки от старослужащих своей нации, какую сполна получает он, многим тяжело выживать в этих экстраординарных условиях.
Кузмин, тем временем, молча берет его телогрейку, с вытравленной на спине хлоркой армянской фамилией, и молча уходит с нею в умывальник. Через час он появляется в нашем кубрике с хлебом, сверху помазанным толстым слоем варенья. Так изначально приучают быть свиньями; после пайку урежут.
Постоянные недоедания сделали свое дело, и я отправился на поиски выброшенных денег.
Я подготовился к этому событию очень основательно.
…В один прекрасный день я вылезу через дырку в заборе за глухой стеной солдатского клуба, дойду к нависшей над дорогой теплотрассы и, отсчитав от нее положенных пятьдесят плит, сверну на пустырь. Там в зарослях полыни и боялуча, среди куч разбросанного бетона; среди густой пустынной растительности, я начну поиски своего драгоценного сокровища. Здесь я на миг буду поражен изобретательностью случая...
Накануне во все близлежащие чайные завезли сигареты «Прима» и все пространство пустыря было завалено пустыми пачками. Просмотрев несколько десятков, я пришел к выводу, что так мне не управится и до второго пришествия…до самого дембеля. Было от чего придти в отчаянье. Не долго думая, я начал собирать эти пачки в кучи. Я бродил среди мусора, среди разного перекати поля, и собирал все эти пустые пачки, складывая их в одну кучу. Со стороны я казался каким-то салабоном, чмырем, которого деды, за какую-то провинность, заставили заниматься бесполезным делом.
Я увидел ее лежащей в канавке, и как-то сразу шестым чувством понял, что это она. Эта пачка была немного розовее тех, которые накануне завезли сюда, на Байконур…
…С тех пор качество моей жизни на Байконуре значительно возросло.
Я разделил деньги на три части. Одну часть я хранил в Гофмана, другую спрятал в резинку трусов. Как оказалось, это было самое надежное место. Третью, - самую малость, - хранил в кармане.
В тот памятный день, когда отобранных Щелкуновым с карантина салабонов должны были перевести в казарму третей роты, там произошло одно знаменательное событие, сравнимо разве что с Куликовской битвой.
Пять человек, русских, - (Только Чернецкий среди них оказался украинцем из Черновцов), - решивших отпраздновать уход ноябрьских дембелей из предыдущего призыва, - во время празднования в своем кубрике услышали в адрес Чернецкого от бабая Айтиева просьбу о том, чтоб «Бандера» сбавил звук, и начал говорить потише. (Уходящие бабаи, оставили Айтиева поддерживать надлежащий их мусульманскому духу порядок в казарме).
Под него были поставлены все жители Средней Азии в части Пухомелина, а в случае чего ему должны были помочь земляки из воинской части Денисова, которая находилась за забором.
Тогда эти пятеро, - Чернецкий, Тугушев, Бутаков и Авилов, - и, говорили еще, бугаистый Горбунов помогал им, - тут же разбрелись по всей казарме, и, вламываясь в кубрики, где опочивали бабаи, начали подымать тех, и строить. Несогласных с таким резким поворотом судьбы бабаев, - тут же начинали бить смертным боем. Айтиеву пришлось даже выпрыгивать в одних подштанниках в разбитое окно.
Для пущей убедительности, почти двухметроворостый Бутаков, родом с Владимира, в показательной манере прибил на глазах у всех табуреткой по голове довольно-таки наглого Пыхриева так, что тот, медленно сползая спиной по спинке двухъярусных коек, какое-то время невольно изображал перед изумленной публикой клоунское удивление.
 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 
|