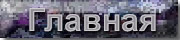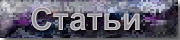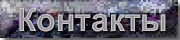|
Но, проходило какое-то время, и чмыри снова появлялись у меня.
Тогда сам Пухомелин распорядился убрать меня с КПП.
Помню, я должен был каждое утро встречать его уазик. Его возил в часть Калмык. Открыв ворота перед его Уазиком, я должен был отдавать честь. Часто по растерянности, я выскакивал, забывая в биндюжке шапку. Переломанная рука была в обмотках; у вшитых по-дембельски штанах...
- Капитан Умаров? – Как-то обратился на разводе Пухомелин к нашему ротному. – Что это там у вас за солдатик пристроился дежурить вместо строевых сержантов?.. – Выждав многозначащую паузу, он продолжал уже неспокойным голосом: - КПП – это лицо части! А у вас чорте знает, что твориться! Подъезжает командир части, - а с дверей вываливаться воин, с намотанной на руке портянкой, вшитый, извините меня, как гандон, без шапки! Сейчас же уберите его оттуда! Я требую!
Меня убрали от греха подальше.
После того как я выбросил в окно столовой Токоева. Очень авторитетного киргиза нашего призыва. Тот мне чуть глаз ложкою не выдавил. После этого надо мной учинили что-то в виде товарищеского суда. Чтоб попугать?.. Именно здесь я узнал истинную любовь этого человека к своим солдатам.
В солдатском клубе на это мероприятие собрали всю часть.
- Ну, что будем делать с ним? – Спросил Пухомелин.
- Да что там возиться с ним, - сказал молоденький лейтенант с хозвзвода, носивший красные погону внутренних войск. – Отправим его в дисциплинарный батальон, да и дело с концом!
В клубе наступила тревожная тишина, ежесекундно способная перерасти в зловещую. Слышны были только покашливания многих сотен людей.
Мне стало вдруг не по себе. Я смотрел на эти серые лица, от которых на миг зависела моя судьба. Повисла тяжелая пауза.
Два человека с дисциплинарного батальона уже дослуживали в нашей казарме. Оба в свое время сбежали, пытаясь уйти от каких-то своих проблем. Но, как говорили нам офицеры: « Дальше Советского Союза у нас не убежишь»! Ребята схлопотали тогда по два года дисбата.
Там они научились ухаживать за охраняющими их краснопагонниками. Они умели образцово делать все: начесывать шинели, делать гармошку на голенищах офицерских сапог... Готовясь на дембель, с ними постоянно советовались относительно своей формы все авторитетные деды в нашей роте. Эти двое, заменяли им собою, стиральные машины и всякие иные полезные в домашнем обиходе приспособления.
Стоя, тогда, перед всем личным составом нашей воинской части, я напряженно вслушивался в мертвую, почти гробовую тишину. На меня глазела тысяча напряженных взглядов. Я видел их все сразу, они вцепились в меня, сверлили меня насквозь. Это была какая-то магия толпы. Она могла растерзать за один миг, а также спасти меня. От нее зависело мое ближайшее будущее. Можно было ощутить себя Иисусом Христом перед своим распятием. Было достаточно одного слова, чтоб моя жизнь круто изменилась. Но какого? «Распни», - а, может, все-таки: «Помилуй!». Я напряженно вслушиваюсь в мертвую тишину. Я находился на своей жизненной Голгофе.
Гром не грянул. В пустоте затянувшейся надолго паузы, слова комбата прозвучали для меня больше симфонией спасения.
- Ну, что же вы?! – Роняя веские слова, высказался по этому поводу комбат, подполковник Пухомелин. – Мы же все здесь советские люди! Сдать человека – это расписаться в своей несостоятельности! Наша задача выправить оступившегося товарища, помочь ему стать надежным товарищем! Вот, товарищи офицеры, и займитесь этим делом! Это теперь ваша задача!
До этого я никогда не задумывался о том, как хорошо быть на самом деле советским человеком. Собственно то и вины своей как таковой я не чувствовал. Ну, понимаешь, выбросил одного бывшего зэка в окно.
Каждый должен бороться за свое место под солнцем как может, и как умеет. Токоев этот, мне чуть было глаз алюминиевой ложкой не выдавил.
Выбрасывая его в окно, я защищался, как индивидуум, и в то же время, как лютый зверь. Мне невдомек было в тот момент, что поэт не такой человек, как все, и это обстоятельство может поразить всех присутствующих при этом запоминающемся действе. То, что поэт отдельная личность и ярый индивидуалист, многие поняли в тот момент, и внутренне согласились, наверное, с таким моим поведением. В то же время этот видевшей виды специфический коллектив, впервые может быть за долгие годы своего существования, столкнулся с таким из ряда вон выходящим явлением, постарался вникнуть в жуткие обстоятельства своего насильственного быта, и, осознав это, постарался понять, что каждый член его должен защищать себя для того, чтоб оставаться человеком, а не нравственным калекою. Меня не стали отторгать, как это бывает часто на гражданке, а оставили перевоспитываться в духе коммунизма.
Будучи чем-то особенным здесь, я многим рисковал каждый день. Здесь, на Байконуре, обживаясь в безжалостной толпе, я должен был защищать себя любыми средствами от натиска озверевшей толпы. Я ведь уже сломал себе руку в этой борьбе. Рука моя, к счастью, лежала в гипсе. А так бы было и там море крови. То, что меня уровняли в тот день в правах с коллективом, сыграло мне на руку. Спектакль этот, я думаю, был придуман специально по этому поводу.
Теперь сержанты начали привлекать меня дежурить в штаб.
Однажды, я что-то писал там, находясь ночью в комнате, где обычно тащили службу дежурные, строевые сержанты, и не сразу услышал, как со спины кто-то тихо подкрался ко мне. Когда оглянулся, скорее всего почувствовав спиной чье-то присутствие в комнате, и оглянулся, - то, впритык, увидел комбата. Пухомелина. Он внимательно смотрел на меня, а потом спросил:
- Ты откуда родом будешь?
Я сказал.
- Земляк, значит…Я тоже с Украины. С Ворошиловоградской области. Ну, служи, зёма, - сказал комбат, и вышел.
За ним, появился лейтенант Щелкунов.
- Служишь ты нормально, претензий в этом плане к тебе не возникает, - говорил мне Щелкунов, – вот еще б только ты научился ладить с офицерами…
Мне, почему-то, это показалось, завуалированным предложением записаться к нему в стукачи. Что, очевидно, соответствовало какой-то действительности, царящей в этой воинской части. Кто-то всегда кому-то доносил. Что, значит, «ладить»? Естественно, что надо будет и мне кому-то постукивать. Только вот, как? Этому меня никто не научил за прожитую жизнь. Я всегда жил сам по себе. Что я должен буду ему говорить в ненавязчивой дружественной атмосфере? Честное слово, я не знал, как это делается. Как это делают люди, не отягощая свою совесть формальными подписками в сотрудничестве, но, постоянно «докладывающие» офицерам о делах в коллективе, производя это в форме простого, элементарного общения. Обычно эти люди имеют неформальную власть над коллективом. Обычное дело для любого коллектива, а тем более для такой подневольной структуры, созданной для решения определенной задачи сстроительства.
Это происходило на Байконуре повсеместно; являясь как бы самой жизнью в тех диких условиях выживания. От своих помощников, офицеры, в конце концов, узнают, чем мы даже дышим в казарме. Через этих людей они управляют процессами, меняя через них парадигму развития внутри любого подконтрольного им коллектива.
В то время я попал под некоторое влияние бывшего зэка Цымбалова, что помогало мне на первых порах. Этот маленький ростом, но по-своему целеустремленный человек, с «комплексом наполеончика», полностью заслуживал мое доверие. Этот постоянно вертелся в среде очень авторитетных армян; ездил с ними на разборки в соседние части, где происходили какие-то конфликты. Армяне жили очень дружно на Байконуре; своих земляков в обиду не давали.
…Однажды, в небольшом коридорчике перед самым входом в казарму, где обычно перекуривали бойцы, - при моем нахождении там, - один маленький, ладненько скроенный человечек, - в новом лавсановом хэбэ с аккуратно подшитым белым воротничком, - тыкал в морду кулачишком хорошо физически сбитого воина, с бригады Тугушева. Это был Цымбалов, как потом я узнал немного, обзнакомившись со всеми, который обламывал чмыря, молдаванина Шапу.
Он добровольно взялся меня обучать «правильному» поведению. Он объяснял, кого с бабаев и дедов можно бить, а с кем лучше придерживаться нормальных, человеческих отношений. Особенно если эти деды обладают особым статусом. Я прошел целый курс его тренингов, как говорят теперь. Тем более, что это было не накладно мне, все это было во мне внутри, - эта заряженность на борьбу, не желание подчиняться чужой воле, оставаться в любых обстоятельствах самим собой и т.д.
Тем более, что в казарме все время происходили какие-то вспышки насилия. В основном на межнациональной почве.
Однажды я шел с умывальника, когда дверь в сушилку, где обычно колбасились армяне, - пили с бывшими воронежскими ворами Цымбаловым и Протопоповым чифирь, - с треском отворилась, и с нее выпал узбек Айтиев, за которым тут же выскочил высокий, поджарый Хачатрян. Очевидно, Хачатрян достал-таки Айтиева. На моих глазах начиналась не рядовая потасовка.
- Средняя Азия ко мне! – Завопил раненным зверем Айтиев.
На его зов, с казармы ломанулась целая толпа бабаев. Они бежали мимо меня, с широко распахнутыми от страха глазами. Это была густая желтая масса людей, которая уже через минуту, получив достойный отпор от семерых армян, ламанулись в обратном направлении, сметая все на своем пути. В этот момент толпа была чем-то похожа на бегущее в панике с поля боя войско какого-нибудь эмира.
В это время у меня была сломана рука. Я умудрился выиграть несколько поединков даже со сломанною рукою, отбиваясь только левою. Очевидно, обо мне уже сложился определенный авторитет в казарме, которого вполне достаточно было, чтоб никто не зацепил меня во время этой вспыхнувшей на ровном месте потасовки.
Похоже, что Цымбалов не только учил меня, как надо держать себя в этой среде, - но и распространял обо мне какие-то выгодные сплетни. Он, с присущей всем бывшим зэкам ненавистью ко всякого рода надзирателям, приставленным приглядывать за такими как он, внушил мне, уничижительную мысль об офицерах.
- Стройбат, - уверял он, - хуже любой зоны. Не верь этим позорным волкам офицерам. У них такая служба. Это переодетые в армейскую форму менты…
…Поэтому я и воспринял призыв Щелкунова к сотрудничеству с офицерами, как что-то неприличное. Наверное, я, все же, ошибался, излишне доверяя бывшему зэку?.. Впрочем, в тот момент, мне было очень выгодно верить ему, жить по тем схемам, которые создавал Цимбалов, окружая себя сильными людьми.
- Я, - сказал тогда Щелкунову, - не такой… И другим быть уже не смогу…
 1 ... 6 7 8 9 10 1 ... 6 7 8 9 10 
|