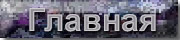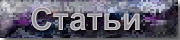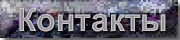|
Думаете, что тяжелая работа или невыносимые условия давят больше всего на психику человека в подобных условиях несвободы, длительного заточения или тюрьмы? Отнюдь нет! Твой враг срок, - время, - с которым в таких нечеловеческих условиях выживания бороться тяжелее всего.
Я не знал в своей жизни более талантливого убийцу свободного времени, чем Кривой. Он с плохо скрываемым энтузиазмом брался за любое дело, но так не одно из них и не довел до конца. Этот законченный сангвиник поражал не только меня своим спокойствием, заражая какими-то делами, которые так же легко заканчивались ничем, как и начинались не из чего. Было такое ощущение, что он находиться весь в делах, тогда как плодов этой возни не было видно.
Он с кем-то постоянно встречался, о чем-то договаривался, долго обговаривая какие-то детали, - и тут же, словно бы, забывая, начинал какие-то новые еще более увлекательные прожекты. То он пытался наладить производство кулонов из скорпионов, заточив их трупики в капельки эбокситной смолы. Просил меня писать своим подругам «красивые» письма, пока одна с них, не заподозрив самого худшего, - поделилась своими заключениями со своей близкой подругой. Та интересовалась у своих знакомых, с числа служащих здесь, на Байконуре, что случилось «с ее» Эдиком. Потом мы отправлялись каждую ночь по каким-то подозрительным адресам, с кем-то встречались; часто ходили купаться в градирню; в какой-то выкопанный котлован... Ротный, с пеной на губах, искал нас ночью, на следующий день отправлял в наряды. Откуда мы прямиком уходили в клуб, или находили еще какое-то надежное место. Как-то бросили даже наряд по кухне…
Все с него сходило, как с гуся вода. Так и останется он в памяти моей, всегда, такой счастливый, идущий по раскаленному асфальту своей летящей походкой.
- Кривенцов! – Как-то на моих глазах окликает его старший прапорщик Голошин; заведующий кухней. Пожилой уже человек, седовласый, с опущенными вниз плечами. Ходил он в прохладное время года, в какой-то даже не синей, а сизой на цвет шинели.
Старший прапорщик как-то двигался вдоль невысокого штакетника, который тянется вдоль стены казармы нашей роты. А навстречу ему, уходящим в сторону клуба галсом, вырывается от входа казармы Кривой.
- Кривенцов! – Снова окликает Кривого Голошин.
- Что, товарищ старший прапорщик? – Кривой разворачивается лицом к Голошину. Он весь во внимании; ожидает, что тот скажет. Он даже наклонился немного вперед.
Голошин улыбается, и внятно, с расстановкой, говорит:
- Ты ходишь, как проститутка, которая знает, что ее трахнут, - но не знает только: где? и когда?
Высказав наболевшее, Голошин поворачивает свое рыхлое лицо в сторону штаба, и продолжает, как ни в чем не бывало, свой путь дальше.
?!!! – Теперь Эдик смотрит ему вслед немигающим взглядом.
- Ползи, ползи, старая «голоша»! – Цедит он сквозь зубы, и, развернувшись, как не в чем не бывало, продолжает свой прерванный полет.
С Кривецовым даже вериги этого рабства были уже не такие обременительны для меня. Именно для этого, я так думаю, судьба свела меня с ним. Есть же люди, которые и в системе принуждения умеют на первый взгляд казаться абсолютно вольными. Какая-то фантасмагория. Но, - это правда. Наблюдая за Кривым, я мог с уверенностью сказать, что в тюрьме он чувствовал себя, как рыба в воде. Он вообще был легким человеком; сангвиником. Здесь можно еще раз повториться, что те, у кого за плечами был нелегкий тюремный опыт, как-то быстрее и комфортнее обустраивались здесь, в условиях стройбата на Байконуре.
…Так прошла самая трудная половина этого бесконечно-долгого лета 1982 года.
В это лето, в нашей старенькой казарме, затеяли какой-то дежурный ремонт. В самом начале нас заставили разобрать очень старую казарму, на месте которой должны были возвести новую и поселить в нее переведенную к Денисову нашу роту. Трудно было даже поверить в это, что Денисов отдаст ее ненавистным в себе «пухомелинцам». Так оно, в конце концов, и вышло. Нам отдалили какую-то развалюху, а новую казарму, которую возвели на том месте, отдали пришедшим в часть майским салабонам.
Денисов решил не распихивать их по ротам. Это был его какой-то новый тактический ход комбата, призванный уберечь новых людей от пагубного разложения дедовщиной. Возможно, что ему удалось даже сделать что-то на этой почве. Он продолжал экспериментировать...
Что мне теперь до этого?..
Нас переселили в старую казарму, в которой полы прохудились уже настолько, что в прорехи начала выглядывать какая-то сорная трава. А по ночам оттуда выползали большие, серые жабы. Они сидели возле дыр до самого утра, как на берегу водоемов. Откуда они здесь взялись? Может, кто из дому притащил, не знаю…
Ремонтировать этот сарай поручили самому яркому представителю бездельников второй роты – Прокопчуку. Этот бравый ефрейтор, весьма ревностно исполнявший все каноны дедовщины, был самым отъявленным негодяем, которых я здесь знавал. Видите ли, прошло уже много лет с тех пор, а я легко могу вызвать из памяти образ Прокопчука. Крупное, хорошо развитое туловище, прикрепленное на кривых ногах, что делало его очень похожим на настоящую каракатицу. Ноги были настолько кривые, что создавалось стойкое впечатление, что большую часть жизни он провел, сидя на бочке. К этому еще нужно добавить: круглую, наглую морду, на которой, как говорили о нем, было два глаза по пятаку и не в одном совести! Этот хохол из Киргизии славился тем, что через его руки проходили все салабоны. Их заводили прямо с эшелона в сушилку, где капитан Гордеев сделал его хозяином. Там, кого он решил, «опускали» за закрытыми дверями.
Пока Прокопчук маялся с обновлением старой казармы, остальное население второй роты жило под казармой; под навесом. Отсюда было хорошо видно, как космические корабли улетают бороздить просторы Вселенной. Девушка Савицкая… какие-то французики…
Подымая по ночам салабонов с Подстанции, Прокопчук заставлял их выполнять за себя «дембельский аккорд». Последнее благое дело дембеля, перед своим увольнением. Салабоны набивали в казарме новые доски. Начальство потирало руки. Все были довольны качеством сделанной работы, и, даже, обещало отпустить домой ефрейтора Прокопчука со своим другом Истоминым с первым же эшелоном. Прокопчук, на мой взгляд, даже лучше справлялся со своим заданием, чем, скажем, мог справиться тот же эсесовец из Бухенвальда. «Каждому свое», - такая надпись, кажется, украшала ворота этого нацистского концлагеря!
К средине августа все работы по перестиланию полов успешно были закончены.
Когда вот Логинов и заставил меня из Летнего полигона идти в казарму. Якобы в эту ночь должен был дежурить ротный.
Логинов как всегда начал читать нотации, насчет моей счастливой салабонской судьбы; что вот он, дескать, дед, должен ходить за мной на Летний полигон, потому что заступивший на дежурство ротный требует, чтоб именно я явился к нему в казарму.
Только после этого я вынужден был идти на встречу его пожеланиям. Возле казармы меня ожидало какое-то очередное построение, и проверка личного состава.
Увидев меня, ротный оживился:
- Явился, - говорит, – выходи! Пойдешь в распоряжения ефрейтора Прокопчука!
В компанию ко мне он подобрал каких-то борзых бабаев; делал он, я так понял, специально.
Помню, что надо было убирать какие-то стружки, вымести всю казарму. Додоженов разделил ее на десять равных частей. Сделав свою часть, я собрался, было уходить…
Тогда путь мне преградил Прокопчук.
- Ты дух! ты должен убирать всю казарму! – Сказал он, и толкнул меня в грудь.
За спиной у меня вырос его друг Истомин, и попытался сделать мне подножку. Я ушел в сторону, и, выбросив в сторону веник, ушел на Летний полигон. Забравшись на башенный кран к молдаванам, и, почифирив с ними, улегся там спать до самого утра. Где меня и нашел этот проныра-старшина, после чего привел на утренний развод.
 1 ...
4
5
6
7
8 ...
10
1 ...
4
5
6
7
8 ...
10

|