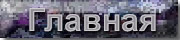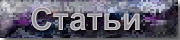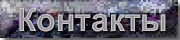|
До этого Цимбалов, я, и, идущий на дембель, Науменко, - последний призывался с Новосибирска, - работали вместе. Цымбалов умел втереться в доверие к начальству, получить выгодный план, закрыть умело наряд. Такие бригадиры всегда на хорошем счету в той системе. Упорно поработав два-три часа, остальную часть ночи мы могли отдыхать, или шариться по всему комбинату…
Науменко считали «косарём», - то есть, человеком способным увильнуть от работы, - он, действительно, за одну ночь смог вытаскать меня по многим биндюгам на «девятке». Везде его встречали какие-то темные личности, всех наций и народностей, населяющих необъятные просторы Союза, где он, присев на корточки где-то в сторонке, как бы сливался с окружающим его серым тоном, становясь практически невидимкой. Так переходя с одной биндюги, в другую, мы обходили всех его знакомых, где пили чифирь, разговаривали. Так растворилась без следа для памяти не одна ночь моей службы на Байконуре. Наутро, возвратясь на развод, мы выслушивали очередную порцию комплементов от Денисова и уходили спать в казарму. Такая жизнь не устраивала, прежде всего, Цымбалова; здесь надо было надрывать на работе свой пуп.
К тому времени он уже составил у Денисова хорошее мнение о себе, теперь он немного как бы отошел в тень от нас, все больше по ночам пропадал в биндюгах Протопопова, где курил план, решая с влиятельным другом чьи-то судьбы…
Марихуаны на Байконуре, как я заметил, было больше чем предостаточно, когда в Советском Союзе, по официальной статистике, наркомании вообще не существовало.
Пришло время, когда Цымбалов под нашим краном стал редким гостем.
Вначале он еще подвозил нам бетон, который мы должны были вручную, лопатами, рассовать по формам и отправить в пропарочные камеры. Потом он вообще надолго начал исчезать. Оставшись одни, мы даже уже не пытались его искать, а ложились на пропарочные камеры, и засыпали. Наконец пришел такой день, когда под самое утро к нам под кран прибежал Протопопов.
- Вы что? Не одного куба бетона не принимали? – Спросил он, оглядываясь по сторонам. – Ой, что будет, Ване? Ой, что будет? – Причитая, он тут же бросился в сторону своей биндюги.
Через минуту прибежал обкуренный Цымбалов... До развода мы еще успели рассовать пару машин бетона. На этом наша с ним деятельность оборвалась.
Дизель назвал меня «глушенным окунем», и просил, чтоб все меня так называли.
После этой ночи, Науменко остался на пару недель до демобилизации вообще без работы, а меня, Цымбалов, поспешил сплавить младшему сержанту Логинову.
Оставшись после отъезда Кузьмина с частью Пухомелина на площадку, Логинов искал ему замену на должность диспетчера Летнего полигона. Как удалось Цымбалову убедить подозрительного Логинова, взять меня на выгодную работу диспетчера? Ума до сих пор не приложу!
Я получал в пользование биндюгу ОТК (Отдела технического контроля), где в дневное время работали жены офицеров; мог теперь не ходить в роту, избегая всевозможных припашек особенно по субботам, во время, так называемого, ПХД (парко-хозяйственного дня)!
Это была самая завидная должность на Летнем полигоне!
Ради нее я согласен был каждый день выслушивать занудное брюзжание младшего сержанта Логинова по поводу повсеместной утери светлых традиций настоящей «дедовщины», полным «оборзением» салабонов отбившихся от рук дедов. Теперь я мог отдохнуть душой и телом от постоянных нарядов. Даже по субботам, в парко-хозяйственные дни, когда вся рота была задействована в наведении обязательного казарменного порядка, меня отправляли на Летний полигон, где шла постоянная отгрузка проходных каналов.
Работы по строительству старта в 1982 году, набирали невиданных масштабов.
С этого времени наступили относительно спокойные месяцы моей службы. На этой должности я мог отдыхать от ежедневных припашек, которые стали такими неизбежными в казарме.
В своей части Денисов заставлял своих же офицеров постоянно держать в напряженности своих подопечных; в казарме создавалась невыносимая атмосфера; отупевшие от произвола люди постоянно задействовались в каких-то необязательных припашках; по десять раз на дню их строили, пересчитывали... Не имея покоя в казарме, очумевшие от дедовщины строители космодрома Байконур, повсеместно старались увильнуть от казарменного произвола, рвались под разными предлогами на производство, находя там хоть какую-то отдушину в работе. Денисов считал, что чем у нас остается свободного времени, тем меньше преступлений мы успеем совершить. Работали даже по воскресеньям. Денисов свято верил, что такое возможно в его отдельно взятой части. Не взирая на то, что это только усиливало гнетущее состояние, поскольку все эти припашки дополнительным грузом ложились на плечи одних и тех же салабонов. Дедовщину, которая повсеместно помогала офицерам держать в ротах видимость порядка, он не мог отменить совсем, да и, очевидно, не очень старался. После семи вечера в казармах оставались только строевые сержанты, которые сами были не прочь поиздеваться над беззащитными духами.
- Дедушке положено ничего не делать, тащиться! – Монотонно читает мне лекцию Логинов о моих обязанностях салабона. - Ты, как салабон, должен работать за меня! - Его ежедневные нотации, как правило, заканчиваются одними и теми же еще свежими воспоминаниями об уехавшем безвременно на площадку Кузмине. - Как плохо, что забрали Кузьмина! - Сетовал на превратности своей судьбы, младший сержант Логинов: – Вот это был настоящий салабон! С него и вырастет настоящий «дед»! – Делал он свои выводы.
От него же я узнавал, как идут дела у Кузьмина на площадке. Логинов говорил, что Кузмину там дали уже звание сержанта, и он уже пошугивает там «духов»…
Мне даже трудно было представить, как из этого, стирающего армянам грязные фуфайки, чморика, мог выкристаллизоваться настоящий, бравый сержант? Но, очевидно, это выглядело именно так, как говорил Логинов.
Цымбалов как никто другой остался довольный сам собою; он потирал руки. Все шло по его сценарию. Он не только избавился от меня, но в это же время заимел в свое распоряжение знаменитую бригаду «Ух» - Шапу, Павленка и Бабинца, - потерявшую своего бравого бригадира Тугушева, уехавшего с частью Пухомелина на площадку. В этом плане, - бригада «Ух» попала к нему, как награда, - как приз, - за его умение втереться в доверие к новому начальству.
Собственно, в борьбе за нее, он проявил свой недюжинный ум и взрослую предусмотрительность, вовремя отказавшись от призрачного зэковского антагонизма к начальству, призванного обслуживать систему принуждения.
К тому времени уже и следа не осталось от бывшего Цымбалова, который в той части проповедовал гордый дух неповиновения, в котором угадывался бывший лагерный кочегар. Он быстро открыл для себя новые возможности. Здесь его дела сразу же пошли резко вверх, к тому же он показывал себя умелым бригадиром. Бригада выбилась в передовые, - в правофланговые, - как было принято называть тогда такие бригады. Начальство в нем души не чаяло. Бригада добывала ему почести и лычки. Как в свое время добывала тому же Тугушеву, или еще раньше - дагестанцу Мусаеву, который насиловал их. При предыдущих бригадирах, эти чмыри, получали порцию ежедневных фентилей! При Цымбалове, жизнь этой троицы выправилась; наладился быт. Они построили под краном себе биндюгу. Стали опрятно выглядеть.
После предшествовавших этому чудесному превращению зверств, они уже души не чаяли в новом бригадире!
В то же время, Логинов скучал. Салабона, в привычном для него смысле, с меня явно не вытанцовывалось. Одно дело восхищаться теми кто, нарушая общепринятые нормы поведения, даже в рабстве держит себя вольно и независимо на расстоянии, а другое – иметь такого подчиненного под началом, который не желает тащить за кого-то лямку службы, и постоянно отлынивает от обязательных припашек.
…Когда мне прислали чай; много заварки чая, я не стал делиться этим с Цымбаловым, как было принято в той системе ценностей.
Заварку - единственное доступное богатство здесь, - я припрятал в заначке, на козловом кране, оставаясь, каждый вечер чифирить с крановым. Русский из Ташкента крановой рассказывал мне о «Deep purple» и других рок-группах. Пополняя мои убогие познания в этой области человеческой деятельности. Вся кабина его крана была обклеена картинками рок музыкантов. “Homo homini lupus est”, - врезалась еще одна надпись на стене его кабины. Человек человеку волк. Мы здесь и жили волками.
Однажды меня встретил Цымбалов. Он сказал:
- Я знаю, что тебе пришла посылка. Я прошу в тебя заварки. Ты ее дашь мне?
Мы вместе с его другом Дизелем получали посылки; меня даже не пригласили, когда они потрошили его посылку…
Тогда я сказал:
- Я не дам тебе заварки.
- Ладно, - сказал на это Цымбалов. – Мы, еще посмотрим…
Ночью, как мне потом рассказывал сам крановой, они сломали окно его козлового крана и выгребли всю хранящуюся в него заварку. Может они заставили его самого им отдать ее, как трофей?.. Мне стало обидно, но ничего поделать было невозможно.
Да и ротный теперь смотрел на меня глазами озлобленного Цымбалова.
Но пока шли погрузки, трогать меня было нельзя. Денисов защищал салабонов; после работы в бригаде Цимбалова, я, у комбата Денисова, оставался тоже на хорошем счету
Тогда они на разводе спровоцировали небольшую потасовку. Дело, как мне видится, должно было начаться с незначительного инцидента. Не трудно, я думаю, Цымбалову упросить было того тощего армянина Григоряна, чтоб тот сорвал у меня на вечернем разводе панаму и, вроде бы в шутку, начав ею размахивать у себя перед своею ширинкою. Армяшка был тощий, обнаглевшим в корень человеком. Я тут же схватил его за грудки, не заметив появившегося на плацу Денисова, который, увидев возню в построениях второй роты, резко спросил у ротного:
- Гордеев! Что там у вас за возня в строю!
Меня поставили перед строем, а потом отправили на целую ночь остужать свой пыл в комендатуру.
Дело само по себе выеденного яйца не стоило б. Я давно уже мечтал побывать на какой-нибудь гауптвахте, без чего и служба, представлялась мне, не службой. Этим фактом я только горжусь. Тем более что, потом, ротный Гордеев упрямо будет лишать меня такой счастливой возможности освежить еще раз в памяти этот настоящий подвиг.
О комендатуре специально распространялась страшные слухи, что там опускают почки даже авторитетным дедам. Офицеры ходили туда, якобы, отрабатывать на живых людях приемы рукопашного боя.
Отправляясь в комендатуру тот же Додоженов и Айтиев, обычно, маскировались под настоящих чмырей. Борзых бабаев там не любили. Служащие там краснопогонники, выглядели по сравнению с нами, хорошо упитанными, краснощекими бойцами, к которым в лапы было лучше не попадать. Они должны были, по замыслу начальства, наводить на военных строителей настоящий ужас. Что они и делали успешно.
…Узнав, что я попал в комендатуру за драку с армянами, бравый краснопагонник, позвякивая ключами, открыл мне сравнительно уютную камеру. Более того, в ней были настоящие деревянные, чистые, покрашенные полы.
- Можешь спать до самого утра, - сказал краснопагонник, закрывая дверь. - Никто тебя здесь не тронет…
Ночью меня разбудил лишь голос сверчка.
Как он попал в этот каменный мешок? Не знаю… Может с заезжими водителями, которые сидели в нем предо мною?.. Томясь в темнице сырой, я, очень обрадовался такому неожиданному соседству. Целую ночь сверчок развлекал меня своими свирелями, напоминая мне детство, дом родной, мать и все что связано с этим…
За больше чем полгода службы я совсем озверел, особенно много начал ругаться матом, перестав слышать самого себя, свой внутренний голос. Я не узнавал больше сам себя; к тому же к умению подавить свой страх, я добавил то, что я уже никому не верил. Я уже был законченный продукт, системы принуждения. Вид военного строителя под необычайно голубым куполом неба над Байконуром, который в моем сознании уже намертво ассоциировался с именем раба, и надсмотрщика-офицера над ним, незаметно вытесняли с моего сознания все, что напоминало мне о другой жизни, где есть трава и деревья, где остались иные отношения между людьми. К тому времени уже казалось, что я так и родился здесь в грубых кирзовых сапогах, в пропитанной соленым потом робе, выгоревшей под безжалостным белым солнцем пустыни.
На Байконуре не было никакой природы, в привычном ее восприятии. Тюра-тамские коровы, бродившие в окрестностях Летнего полигона, жевали разбросанные газеты вместо травы, чем-то, напоминая мне рогатых монстров из отдаленного будущего.
Иногда я видел скорпионов, которые привозились сюда с площадок, с которых мой новый знакомый, Кривенцов, в клубе пытался делать себе кулоны, залив их эбокситной смолой. На стрельбище, на которое нас отвезли по прихоти Денисова пострелять по мишеням, однажды поймали настоящую змею, - возможно эфу, - и, удалив ей предусмотрительно зубы, - (штаниной), - нашлись и для этой операции специалисты, - а потом таскали ее за собою, как какую-то веревку...
Поэтому, в заточении, я так обрадовался этому сверчку, который разбудил во мне воспоминания, прежде всего о родине, о доме…
Утром за мной пришел прапорщик Тарасенко, мой земляк, и, отдохнувшего на полу узника, снова выпустили из ставшей за ночь гостеприимной камеры, - надо было грузить уже поставленные под погрузку машины, - но уже тогда, моей репутации в глазах Денисова, был нанесен очень чувствительный удар.
 1
2
3
4
5
6 ...
10
1
2
3
4
5
6 ...
10

|